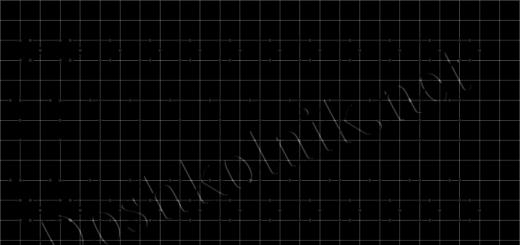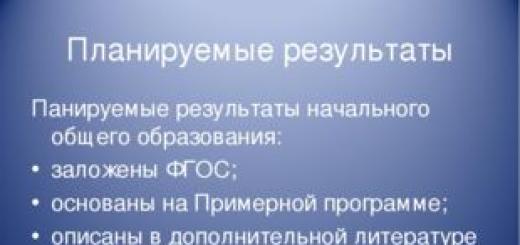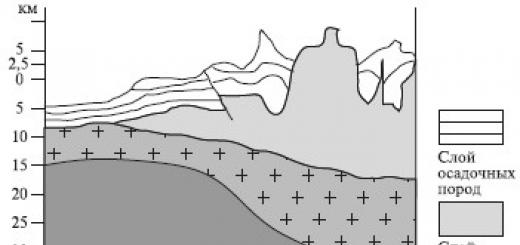Эмоциональность, “истина страстей”, вдохновенный огонь являются отличительными чертами русского таланта. Но раскрываются качества только при верном понимании роли. Основой вдохновенного творчества Пушкин считает высокую профессиональность. “Талант - это предрасположение к труду”,- говорил он. И его суждения о молодой Колосовой, которая могла вырасти в “истинно хорошую актрису - не только прелестную собой, но и прекрасную умом, искусством и неоспоримым дарованием”1, но не стала ею, так как была невзыскательна к себе, подтверждает это правило. Пушкин требует от актера профессиональной вооруженности, умения глубоко разбираться в своих ролях.
В статьях Пушкина можно найти характеристику многих русских актеров: А.С.Яковлева, Я.Г.Брянского, М.И. Вальберховой, балерины А. И. Истоминой и других. Вот, что Пушкин пишет в своей статье “Мои замечания об русском театре”: “Долго Семенова являлась перед нами с диким, но пламенным Яковлевым, который, когда не был пьян, напоминал нам пьяного Тальма. В то время имели мы двух трагических актеров! Яковлев умер; Брянский заступил его место, но не заменил его. Брянский, может быть, благопристойнее, вообще имеет более благородства на, сцене, более уважения к публике, тверже знает свои роли, не останавливает представлений внезапными своими болезнями; но зато какая холодность! какой однообразный, тяжелый напев!
Яковлев имел часто восхитительные порывы гения, иногда порывы лубочного Тальма. Брянский всегда, везде одинаков. Вечно улыбающийся Фингал, Тезей, Орозман, Язон, Димитрий - равно бездушны, надуты, принужденны, томительны. Напрасно говорите вы ему: расшевелись, батюшка! развернись, рассердись, ну! ну! Неловкий, размеренный, сжатый во всех движениях, он не умеет владеть ни своим голосом, ни своей фигурою. Брянский в трагедии никогда никого не тронул, а в комедии не рассмешил. Несмотря на это, как комический актер он имеет преимущество и даже истинное достоинство.
Оставляю на жертву бенуару Щеникова, Глухарева, Каменогорского, Толченова и проч. Все они, принятые сначала с восторгом, а после падшие в презрение самого райка, погибли без шума. Но из числа сих отверженных исключим Борецкого. Любовь, иные думают, несчастная, к своему искусству увлекла его на трагическую сцену. Он не имеет величественной осанки Яковлева, ни даже довольно приятной фигуры Брянского, его напев еще однообразнее и томительнее, вообще играет он хуже его.
Certes! c"est beaucoup dire - со всем тем я Борецкого предпочитаю Брянскому. Борецкий имеет чувство; мы слыхали порывы души его в роли Эдипа и старого Горация. Надежда в нем не пропала. Искоренение всех привычек, совершенная перемена методы, новый образ выражаться могут сделать из Борецкого, одаренного средствами душевными и физическими, актера с великим достоинством”.
Многожанровым представлял себе поэт русское театральное искусство. Он не обходил вниманием оперу, балет. Первый заметил своеобразие русской школы танца - “душой исполненный полет”.
Особое внимание проявлял Пушкин к творчеству реформатора русской сцены М. С. Щепкина. Искусство Щепкина представлялось ему столь значительным, что он настаивал на передаче опыта великого артиста грядущим поколениям. Пушкин своей рукой написал первую фразу “Записок” Щепкина.
Огромной заслугой Пушкина перед отечественным театром является создание русской народной драмы. Он не только теоретически обосновал эстетику реализма, но и создал драматургические произведения по принципам этой эстетики.
2.Трагедия “Борис Годунов”
Воплощением новой системы взглядов в драматургии стал “Борис Годунов”, написанный в 1824-1825 годах. С пристальным вниманием Пушкин изучает “Историю государства Российского” Н. М. Карамзина, высоко ценит этот труд. Своего “Бориса Годунова” “с благоговением и благодарностью” посвящает Карамзину, однако его философскую концепцию Пушкин отвергает. Объективное исследование убеждает его, что история государства не есть история его правителей, но - история “судьбы народной”.
Стройная система идейно-художественных взглядов помогла Пушкину создать трагедию “Борис Годунов”, которая по праву может считаться образцом народной драмы в духе Шекспира.
Взяв за основу фактологический материал из “Истории государства Российского”, Пушкин переосмыслил его в соответствии со своей философской концепцией и вместо монархической концепции Карамзина, утверждавшего единство самодержца и народа, раскрыл непримиримый конфликт самодержавной власти и народа. Временные успехи и победы самодержцев обусловлены поддержкой народных масс. Крушение самодержцев происходит в результате потери доверия народа.
Отвергая каноны классицизма, Пушкин свободно переносит место действия из Москвы в Краков, из царских палат на Девичье поле, из Самборского замка Мнишека в корчму на литовской границе. Время действия в “Борисе Годунове” охватывает более шести лет. Классицистское единство действия, сосредоточенного вокруг главного героя драмы, Пушкин заменяет единством действия в более широком и глубоком смысле: 23 эпизода, из которых состоит трагедия, расположены в соответствии с задачей раскрытия судьбы народной, определяющей собой и судьбы отдельных героев.
Следуя Шекспиру “в вольном и свободном изображении характеров”, Пушкин в “Борисе Годунове” создал множество образов. Каждый из них обрисован ярко, четко, сочно. Несколькими штрихами Пушкин создает острый характер и сообщает ему объемность и глубину.
В сюжетной линии “Бориса Годунова” явственно прочерчивается нравственная проблема: ответственность Бориса за убийство царевича Димитрия. В своем стремлении к узурпации царского престола Борис Годунов не останавливается перед убийством законного наследника. Но было бы ошибкой считать, что этическая проблема составляет идейный пафос трагедии. Нравственной стороне событий Пушкин придает социальный смысл.
“Димитрия воскреснувшего имя” становится знаменем движения широких народных масс против “царя-Ирода”, отнявшего у крепостных крестьян Юрьев день - единственный в году день свободы. Нравственная вина Годунова лишь повод для обращения против него народной ярости. И хотя вера в “хорошего царя”, свойственная крестьянской идеологии XVII-XVIII веков, выражена в трагедии в народном культе убиенного младенца Димитрия, она не затемняет социальный смысл борьбы народа с самодержавно-крепостническим гнетом. Народ, оплакивающий царевича-мученика, не хочет приветствовать нового царя.
Так беспристрастное исследование событий сообщает “Борису Годунову” значение социально-исторической трагедии. Социальная ее направленность акцентируется уже в первой сцене: Пушкин подчеркивает политическую цель Бориса в убийстве царевича Димитрия.
Интересно подготавливается раскрытие взаимоотношений Бориса с народом. Из диалога Шуйского и Воротынского мы узнаем, что “вслед за патриархом к монастырю пошел и весь народ”. Значит, народ доверяет Борису Годунову, если просит его принять царский венец? Но уже следующая коротенькая сцена на Красной площади заставляет сомневаться в народном доверии. Не по зову сердца, а по велению думного дьячка стекается народ к Новодевичьему монастырю. А сцена на Девичьем поле и народный “плач”, возникающий по указанию боярства, окончательно развенчивают хитросплетения правящих слоев общества, стремящихся придать самодержавию видимость всенародной власти.
Нельзя сказать, что трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» обделена вниманием исследователей, но неисчерпаемость заключенных в ней смыслов снова и снова заставляет обратиться к ней.
Говоря о философии власти в пушкинской трагедии, нельзя не вспомнить прекрасные слова митрополита Анастасия: «“Борис Годунов” с его Пименом – это не что иное, как яркое отображение древней святой Руси; от нее, от ее древних летописцев, от их мудрой простоты, от их усердия, можно сказать, набожности к власти царя, данной от Бога, Пушкин сам почерпнул эту инстинктивную любовь к русской монархии и русским государям» .
Несомненно, власть в трагедии «Борис Годунов» имеет харизматическое измерение и осознается как связь с Божественным Промыслом, с Божественной волей, с Божественным благословением или Божественным гневом. И не случайно Борис, «приемля власть», обращается к покойному царю Феодору Иоанновичу:
Священное на власть благословенье.
Итак, власть осмысляется как дело великое, страшное и священное, как жребий, который может быть слишком тяжким: «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха». (Парадоксальным образом тяжелая шапка Мономаха ассоциируется – рифмуется – с «железным колпаком» юродивого.) Этот священный жребий может быть роковым для его недостойного носителя. С другой стороны, Божественный Промысл может не только щадить и сохранять, но и возвеличивать явно незаконного претендента, бессовестного Самозванца, если этот человек исполняет его волю. Вот что говорит о Самозванце Гаврила Пушкин:
Хранит его, конечно, Провиденье;
И мы, друзья, не станем унывать.
В финале трагедии посланный самозванцем Пушкин обращается к москвичам:
Не гневайте ж царя и бойтесь Бога.
Выстраиваются сложные диалогические и диалектические отношения между царем, народом и Богом. Как неправда царя, так и грех народа способны вызвать Божественный гнев и бедствия:
О страшное невиданное горе!
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли, –
уверен отшельник Пимен. К его словам мы еще вернемся.
Власть, царство, судьбы царей для народа не являются чем-то внешним, но становятся важным элементом духовной жизни, принимаются внутрь народной души, внутрь молитвы:
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро –
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
У современного человека может возникнуть вопрос: почему следует смиренно умолять Спасителя за темные деянья прежних царей, к которым потомки как будто не имеют отношения и в которых они невиновны? С православной точки зрения, этот вопрос лишний: судьбы царя и народа неразрывно связаны, за беззакония правителей отвечает народ, и, наоборот, властители несут ответ за беззакония народа. И если их подвиги и добро становятся залогом благополучия державы, то их грехи могут привести к бедствиям для страны. И следовательно, молясь за «великих царей», потомки молятся о самих себе, в том числе и за свои грехи и «темные деянья». Это всеобщая связь царя и народа, прошлого, настоящего и будущего.
Эта всеобщая связь обусловлена в трагедии ощущением священной, богоданной истории, как позднее скажет Пушкин в ответе П.Я. Чаадаеву: «История, которую нам Бог дал». Ибо чувство ответственности государя и народа перед Богом и взаимоответственности народа и царя невозможно без ощущения сакральности жизни, ее освящения, всеобщего предстояния Создателю. Примечательно перечисление того, что заповедует описывать Пимен Отрепьеву:
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса,
Пророчества и знаменья небесны.
Священный характер царства во многом определяется благочестием царей, их связью с монашеством и способностью ради Небесного Царства покинуть земное:
Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился:
Они его меняли на клобук.
Ниже мы постараемся показать, что отношение к иночеству, к монашескому подвигу является одним из определяющих критериев для характеристики царей в трагедии.
В «Борисе Годунове» можно выделить несколько типов властителей, каждый из которых имеет свое отношение к Промыслу, свое участие в его судьбах. Их пять: «разумный самодержец» (Иоанн III), «кающийся грешник, кающийся мучитель» (Иоанн Грозный), «царь-молитвенник» (Феодор), «легитимный макиавеллист» (Борис Годунов) и «нелегитимный макиавеллист, революционер» (Самозванец).
Тип «разумного самодержца» – это те цари, о которых Пимен говорит:
Своих царей великих поминают,
За их труды, за славу, за добро.
Иоанн III – один из них. Борис Годунов дает ему краткую, но исчерпывающую характеристику:
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец.
В этом определении емко оценивается блестящее правление Иоанна III (1462–1505), в которое были присоединены к Москве Новгород, Тверь, Северские земли, свергнуто ордынское иго. Особенно подчеркивается разумность, то есть государственная трезвость, разумная осторожность, умеренность его политики. Иоанн III становится символом разумной строгости и жесткости, а также и государственной стабильности – того могущества, на котором почиет небесное благословение.
Гораздо более противоречивым является образ Иоанна Грозного. С одной стороны, он также вписан в эту череду великих царей. Но именно к нему относятся слова: «А за грехи, за темные деянья / Спасителя смиренно умоляют». В трагедии вспоминаются и славные дела Иоаннова царствия: взятие Казани, успешные войны с Литвой. Отрепьев говорит Пимену:
Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Но при этом Грозный назван «свирепым внуком разумного самодержца». И в трагедии присутствует страшная память об опричном терроре, кровавый пар которого не рассеялся и через 20 лет после смерти Грозного. Боярин Пушкин сравнивает правление Бориса с временами свирепого царя:
…Он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет,
Что на колу кровавом всенародно
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Пушкиным здесь использованы сообщение А. Курбского из «Истории Ивана Грозного» о смерти князя Дмитрия Шевырева, посаженного на кол и певшего канон Иисусу , и рассказ о пытке Михаила Воротынского, когда царь лично участвовал в дознании и подгребал угли под пытаемого . Кстати сказать, Михаил Воротынский был знаменит тем, что в 1552 году первым ворвался в Казань и водрузил крест на башне, а в 1572 году спас Москву от татарского нашествия, разгромив Девлет-Гирея при Молодях. Всего через десять месяцев после этого он был взят по ложному обвинению в чародействе, пытан и умер на пути в ссылку. В трагедии «Борис Годунов» имя Воротынского становится символом чести, честности и прямоты, родового благородства, мужества и доверчивости. Именно такими чертами и наделен собеседник Шуйского Воротынский, которого в 1598 году уже не было в Москве.
В монологе Афанасия Пушкина Грозный предстает прямо-таки неким царем – гонителем христиан, даже богоборцем. Картина: мученик на колу славит Христа, а царь смотрит на это – вполне подходит для житий какого-нибудь святого времен Диоклетиана. Более того, в образ Грозного вносится нечто инфернальное, бесовское – «не к ночи будь помянут». Это как бы царь-демон, ночной упырь (нечто вроде образа Юстиниана в «Тайной истории» Прокопия). Как показывает А.С. Пушкин, эпоха Грозного оставила глубокий след в умах и душах деятелей Борисова времени, да и сам Борис – «продукт» опричнины: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач». Ряд эпитетов «татарин, зять Малюты, палач» имеет ассоциативный подтекст: в каком-то смысле времена Грозного воспринимаются как новое татарское иго. И не случайно их соседство в вопросах Отрепьева:
Я угадать хотел, о чем он пишет?
О темном ли владычестве татар?
О казнях ли свирепых Иоанна?
Но Пушкин сделал еще более глубокое наблюдение: Смутное время – следствие эпохи Грозного и возмездие за него . Вот слова Самозванца:
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.
Отметим в этой сентенции библейскую параллель – «вокруг меня народы возмутила». Это реминисценция из псалма 2: «Зачем мятутся народы» – «Вскую шаташася языци» (Пс. 2: 1). Псалом 2 имеет эсхатологическое значение: он говорит о восстании народов против помазанника Божия. Известно, кто возмущает народы – дух тьмы; и если мы вспомним предположение Афанасия Пушкина, что в Литве появился «некий дух во образе царевича», то, казалось, образ Грозного окончательно инфернализируется, если он усыновляет демонский призрак, которому приносятся человеческие жертвы («И в жертву мне Бориса обрекла»). Но подобное заключение было бы неверным. Вспомним монолог Пимена:
Царь Иоанн искал успокоенья
В подобии монашеских трудов.
Его дворец, любимцев гордых полный,
Монастыря вид новый принимал…
…здесь (то есть в Чудовом монастыре. – д. В.В.
) видел я царя,
Усталого от гневных дум и казней…
Он говорил игумену и братье:
«Отцы мои, желанный день придет…
Прииду к вам, преступник окаянный,
И схиму здесь честную восприму,
К стопам твоим, святый отец, припадши».
Так говорил державный государь,
И сладко речь из уст его лилася,
И плакал он. А мы в слезах молились,
Да ниспошлет Господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной .
Это кажущийся парадокс: монахи молятся о мучителе и его страдающей душе. Но, по православному учению, грешник страдает не меньше, чем обижаемый им, и если не в этой жизни, то в будущей. Иоанн Грозный страдал и мучился своими грехами и преступлениями и стремился к покаянию и очищению. Его стремление к монашеству показывает в нем жажду обновления, совлечения прежнего ветхого, гневного и злобного человека. Трагедия Грозного – трагедия недостойного носителя священной власти (что-то вроде недостойного священника), который грешит не из любви ко греху и не ради наслаждения и пользы, но потому, что из-за страстности, страдательности своей души не может не грешить, и потому он грешит и кается, встает и снова падает. И его некое оправдание – в том, что он не восхищает власть, а принимает ее по послушанию, он – как бы игумен земли святорусской: «А грозный царь явился игуменом смиренным». Грозный представляется кающимся грешником, который, тем не менее, не теряет харизмы власти и помнит о Царствии Небесном (что показывает его стремление к монашеству) и верен его идеалу, хотя и погрешает практически.
Царь Феодор – тип святого, или, лучше сказать, блаженного, на престоле:
А сын его Феодор? на престоле
Он воздыхал о мирном житие
Молчальника. Он царские чертоги
Преобразил в молитвенную келью…
Бог возлюбил смирение царя,
И Русь при нем во славе безмятежной
утешилась.
Это парадоксально, но лучшим царем, лучшим начальником, руководителем народной жизни оказывается тот царь, который ни во что не мешается, только молится и предстательствует перед Богом за народ. Напротив, человеческие, слишком человеческие, я бы сказал – гуманистические, усилия Бориса Годунова, не имеющие благодатной поддержки, неминуемо терпят крах и ведут к провалу и его, и народ.
А.С. Пушкин в уста Пимена вкладывает характеристику царствования Феодора, резко расходящуюся с оценкой, данной Н.М. Карамзиным, для которого «жизнь Федора была подобна дремоте, ибо так можно назвать смиренную праздность сего жалкого венценосца» . Главная черта характера Феодора – смирение, и оно оказывается «страшной силой» (по словам Ф.М. Достоевского). Внешне невидная, неброская жизнь Феодора завершается великой славой, дивным и страшным видением:
К его одру, царю едину зримый,
Явился муж необычайно светел,
И начал с ним беседовать Феодор
И называть великим патриархом.
И все вокруг объяты были страхом,
Уразумев небесное виденье…
Исполнились святым благоуханьем,
И лик его как солнце просиял.
Рассказа об этом видении нет у Карамзина: очевидно Пушкин, для которого карамзинская «История государства Российского» была главным источником при работе над трагедией, почерпнул его из «Жития царя Феодора Иоанновича» , написанного патриархом Иовом – рукопись его могла храниться в Святогорском монастыре.
Пушкин в основном сохранил канву повествования святителя Иова, однако для нас важны те детали, на которые поэт обратил особое внимание. Упоминание о «необычайно светлом муже» и сравнение лица Феодора с сияющим солнцем особенно знаменательны после слов о «бурной душе» его отца Иоанна Грозного, а также о «кромешниках»: на смену мраку и буре приходит «тихий свет» любви, милость и прощение.
Достаточно важна деталь, отсутствующая в повествовании патриарха Иова, – благоухание в царских палатах:
Когда же он преставился, палаты
Исполнились святым благоуханьем.
Эта традиционная для агиографических повествований деталь понадобилась Пушкину для того, чтобы обозначить торжество святости над смертью: покои, где должен быть запах тления и смерти, исполнились райского благоухания, свидетельствующего о жизни и воскресении. Благоухание говорит о нетлении: мы увидим далее, что тема нетления и святости мощей будет развита Пушкиным в рассказе о царевиче Димитрии.
Итак, житие Феодора, вкратце представленное в трагедии, показано как осуществление идеала праведности на престоле, столь дорогого и для Руси, и для Византии; это – омолитвливание, охристовление всей жизни, в том числе и власти .
Какой же тип правителя представляет Борис Годунов? Данная нам ему характеристика «легитимный макиавеллист», безусловно, не исчерпывает всех граней его образа. Борис Годунов трагедии многосторонен. Первая грань его характера – стремление подчеркнуть законность правопреемства от прежних государей, стремление продолжать государственную традицию:
Наследую могущим Иоаннам –
Наследую и ангелу-царю!
О праведник! о мой отец державный!
Воззри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли тому, кого любил ты…
Священное на власть благословенье:
Да правлю я во славе свой народ,
Да буду благ и праведен, как ты!
Эти проникновенные строки навеяны словами Н.М. Карамзина, относящимися, однако, к периоду междуцарствия: «Борис клялся, что никогда не дерзнет взять скипетра, освященного рукой усопшего царя-ангела, его отца и благотворителя» . Но если у Карамзина этими словами Борис отказывается от власти, то у Пушкина – принимает. Для поэта было важно подчеркнуть стремление Бориса внушить мысль о законности и благости его царствия, а также стяжать небесное благословение, почивавшее на молитвенном и благостном Феодоре.
Значимым является также призыв Годунова:
Теперь пойдем, поклонимся гробам
Почиющих властителей России.
Поклонение гробницам царей входило в церемониал царского венчания, но значимо само введение темы почитания «гробов». Отсюда протягивается нить к позднейшему стихотворению «Два чувства дивно близки нам» (1830):
Два чувства дивно близки нам –
В них сердце обретает пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основаны от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Тема почитания гробниц, кладбищ в пушкинском творчестве достаточно исследована , тем не менее, следует подчеркнуть, что поклонение гробам в драме носит не только церемониальный характер и не только служит легитимизации власти Бориса, но и вносит светлую черту в его характер – благоговейное отношение к усопшим .
О Годунове восторженно отзывается Басманов: «Высокий дух державный». И действительно, в речах Бориса заметны не только опытность, но и глубокий государственный ум, в котором органично сочетаются традиционализм, широта взгляда и способность к введению новшеств. Вот его предсмертные наставления сыну:
Не изменяй теченья дел. Привычка –
Душа держав…
Со строгостью храни устав церковный.
С другой стороны, в разговоре с Басмановым он высказывает желание уничтожить местничество:
Пускай их спесь о местничестве тужит;
Пора презреть мне ропот знатной черни
И гибельный обычай уничтожить.
Сыну он заповедует быть открытым к иностранцам :
Будь милостив, доступен к иноземцам,
Доверчиво их службу принимай.
Борис прекрасно понимает пользу учения и просвещения:
Как хорошо! вот сладкий плод ученья!
Как с облаков ты сможешь обозреть
Все царство вдруг: границы, грады, реки!
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни…
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать .
Эта сентенция – не только верное историческое наблюдение; для Пушкина она имеет программный характер: от этих слов протягивается нить к более поздним «Стансам» (1826), где о Петре I говорится:
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье.
Борис исполнен глубокого царственного достоинства:
Какой разительный контраст с суетливой болтовней Самозванца, с его манерой раздавать несбыточные обещания и льстить всем!
Чувство государственного достоинства ощущается и в политике, проводимой Борисом. Он отказывается от помощи шведского короля в подавлении мятежа и отражении польского вторжения:
Но не нужна нам чуждая подмога;
Cвоих людей у нас довольно ратных,
Чтоб отразить изменника и ляха.
Я отказал.
Хотя на поверку иноземные войска оказываются единственно надежными, Борис не принимает шведскую помощь, зная, как дорого придется за нее заплатить. Опять-таки, какой контраст с Самозванцем, указывающим «врагу в Москву заветную дорогу».
Итак, Борис предстает человеком, исполненным великого государственного ума и огромных способностей – но способностей безблагодатных!
Примечателен отзыв Воротынского:
А он умел и страхом, и любовью,
И славою народ очаровать.
Здесь ключевым является слово «очаровать». Для нас оно уже мало что значит, но Пушкин и современники прекрасно помнили его первоначальное значение – «чаровать, околдовывать».
Весьма показателен контраст между сценами «Келья в Чудовом монастыре» и «Царские палаты», разделенными лишь сценой «Палаты патриарха». Пимен с восторгом говорит о благочестии и любви к монашеству прежних царей, а о Борисе говорится, что
…его любимая беседа:
Кудесники, гадатели, колдуньи –
Все ворожит, что красная невеста.
Обращение Годунова к ворожеям и колдунам – факт исторический, который Пушкин, безусловно, знал, благодаря Карамзину . Однако для нас важно, что Пушкин выбрал именно эту черту в его характере, очевидно для того, чтобы показать безблагодатность Бориса, его связь с инфернальными силами. Парадоксальным образом христианский государь облекается в одежды Фауста. Это не случайно, потому что у них общая философская и психологическая установка – стремление к счастью. Обратим внимание на монолог Бориса:
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скучаем и томимся?
Эти слова живо напоминают раннее юношеское стихотворенье Пушкина «К***» («Не спрашивай, зачем унылой думой…»; 1817):
Кто счастье знал, тот не узнает счастья,
На краткий миг блаженство нам дано:
От юности, от нег и сладострастья
Останется уныние одно.
Подобную установку можно охарактеризовать как гедонистическую и языческую. Трагедия Бориса в том, что для него предмет сладострастного вожделения – власть, которая для христианина является священным долгом, но никак не предметом вожделения. И то, что власть – это, прежде всего, долг, прекрасно понимает сам Годунов. Вот как он обращается к боярам:
Вы видели, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.
Сколь тяжела обязанность моя!
Происходит словно бы раздвоение личности: Борис разный на людях и наедине с самим собой, он – блюститель церковного устава и вопрошатель колдунов; царь, понимающий власть как великую священную обязанность и властолюбец, вожделеющий ее ради наслаждения и счастья. Из его монолога становится ясно, что даже добро он делает своекорыстно:
Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать –
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна,
Они любить умеют только мертвых.
Становится ясно, что Борис делал добро не ради Бога, не ради Христовых заповедей и даже не ради людей, не для самого народа, а чтобы возбудить народную любовь к себе. Пушкин показывает эгоистический, самостный характер «благотворительности» Бориса:
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы…
Это тройное «я» лучше, чем что-либо, характеризует эгоизм и прагматизм Бориса.
Весьма характерны также слова: «Вот черни суд: ищи ж ее любви!». Сам пессимизм, выраженный в этих словах Бориса, а также его конечный выбор между страхом и любовью в пользу страха, напоминают суждения Николо Макиавелли: «Если уж выбирать между страхом и любовью, то надежнее выбирать страх. Ибо о людях можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, но когда у тебя явится в них нужда, то они тотчас от тебя отвернутся» .
Важно и другое: Борис на самом деле не любит народа, а ищет его любви: он выступает как популист, как макиавеллист, как прагматик, как политический технолог, подобный технологам XX века. И это отлично чувствует народ. Уже в самой сцене избрания на царство чувства, которые испытывает народ (по крайней мере, его часть) – это холодность и отстраненность, показанные Пушкиным не без некоторой доли иронии в сцене «Девичье поле»: «Один (тихо): О чем так плачут? / Другой : А как нам знать? То ведают бояре. / Не нам чета».
Иными словами, так называемое «избрание» для народа – чужое дело, боярские игры. Еще больше иронии чувствуется в словах: «Один
: Все плачут. / Заплачем, брат, и мы.
Другой
: Я силюсь, брат, / да не могу. Первый
: Я также. Нет ли луку?»
Народ отчетливо осознает безблагодатность власти Бориса: «Вот ужо им будет, безбожникам». И бедствия, обрушивающиеся на Русь, воспринимаются как наказание за избрание безблагодатного, преступного царя:
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
В этом – высший суд носителя народной праведности отшельника Пимена. Помимо прямого смысла – избрание убийцы невинного ребенка, здесь есть и другой план – смена государственной и нравственной парадигмы. Во-первых, царь уже не даруется от Бога, не восходит «по природе», а избирается, нарекается народом, он – «само-деланный» царь. Во-вторых, Борис становится «цареубийцей» еще и потому, что, восходя через убийство на престол, он попирает законность, самые основы царской власти, убивает «царственность», если так можно сказать, и в каком-то смысле является революционером. Характерна параллель к этим словам Пимена в стихотворении «Андрей Шенье» (1825):
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Вершина народной оценки Бориса – слова юродивого: «Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Ирод не только детоубийца, он еще и гонитель Христа.
Это отношение к себе чувствует Борис и отвечает на него злобой.
Возможно, желание Годунова в начале своего единоличного правления продолжать традиции Феодорова царствования искренне, но, тем не менее, в нем живы и иные воспоминания; не случайно Шуйский говорит о нем: «Зять Малюты, зять палача и сам в душе палач».
Боярин Афанасий Пушкин так определяет правление Годунова: «Он правит нами / Как царь Иван (не к ночи будь помянут)», хотя и оговаривается, что «явных казней нет». Эта характеристика имеет несколько мотиваций. Первая – недовольство родовитого боярина, чьи сословные интересы ущемляет верховная власть: «Вот, Юрьев день задумал уничтожить». Второй слой – отвращение порядочного человека к наушничеству и доносительству:
Мы дома, как Литвой,
Осаждены неверными рабами;
Все языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воры.
И, возможно, на самом глубинном уровне – отвращение к детоубийце.
Сам Борис Годунов обращается к наследию Грозного. Не случайно он грозит Шуйскому:
Клянусь, тебя постигнет злая казнь –
Такая казнь, что царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется.
После вторжения Самозванца от угроз царь переходит к делу:
Кому язык отрежут, а кому
И голову – такая, право, притча!
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.
На площади, где человека три
Сойдутся – глядь – лазутчик уж и вьется,
А государь досужною порой
Доносчиков допрашивает сам.
Эта картина напоминает худшие времена Грозного – те, которые вспоминал боярин Афанасий Пушкин.
В конце концов Борис Годунов прямо ссылается на пример Иоанна Грозного:
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн…
Так думал и его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро – не скажет он спасибо.
Грабь и казни – тебе не будет хуже.
Таким образом, царь, начавший с обета «щадить жизнь и кровь и самих преступников» , стремившийся быть «благим и праведным, как Феодор Иоаннович», кончает террором в духе Иоанна Грозного. Но если на стороне Иоанна было народное доверие и желание народа терпеть все от законного «природного царя», то Борис был лишен всего этого: «мнение народное» было не за него.
Тем не менее, перечисленные черты не исчерпывают характера Годунова, иначе не состоялся бы драматический конфликт: вся суть трагедии состояла бы лишь в заслуженной погибели закоренелого злодея. Но суть проблемы состоит в том, что Борис вовсе не представляет собой злодея типа Яго, Макбета или Ричарда III – людей, сознательно возненавидевших добро и готовых идти до последних пределов зла. Борис Годунов в трагедии является не только как умный человек и великий правитель, но и любящий отец: он всей душой сострадает дочери, потерявшей жениха, а сын «ему дороже душевного спасенья». В общении с детьми пробуждаются лучшие его стороны: в завещании сыну он заповедает ему творить милосердие, соблюдать достоинство, «хранить святую чистоту», «со строгостью блюсти устав церковный». Борис всеми силами стремиться скрыть от сына свое преступление, и не только потому, что боится потерять его уважение, но и для того, чтобы сохранить его от греха. Характерно одно место из его предсмертного разговора с сыном:
Но я достиг верховной власти… чем?
Не спрашивай. Довольно: ты невинен,
Ты царствовать теперь по праву станешь.
Я, я за все один отвечу Богу.
В сопереживании беде дочери у Бориса просыпается совесть и чувство вины:
Я, может быть, прогневал небеса,
Я счастие твое не мог устроить,
Безвинная, зачем же ты страдаешь?
Путем многих страданий Борис Годунов понимает значение совести как голоса Божия, ее смысл в жизни человека как основы его самостоянья и покоя:
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… Едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Эти слова напоминают изречение Иоанна Златоуста из «Толкования на 2-е послание к коринфянам»: «Ибо похвала наша – свидетельство совести нашей, то есть совесть, не могущая нас осудить; и даже если мы претерпеваем тысячи бедствий, то достаточно для утешения нашего, а скорее – не только для утешения, но и для увенчания, чистой совести, свидетельствующей нам, что мы претерпеваем сие не из-за чего-то дурного, но угодного Богу» .
Однако посреди бедствий, посещающих Бориса, ему не дано утешения в своей совести. Трагедия Годунова как раз и состоит в мучениях нечистой, больной совести:
Но если в ней единое пятно
Единое, случайно завелося,
Тогда – беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах…
И рад бежать, да некуда… ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
В этом фрагменте заметно влияние церковной письменности и церковной фразеологии. Выражение «душа сгорит» имеет параллель как в словах апостола Павла о «сожженных совестью» (1 Тим. 4: 2), так и в изречении Иоанна Златоуста: «Мы греха не боимся, который воистину ужасен и огнем поедает совесть» .
Выражение «яд в сердце» также типично для церковной литературы; оно встречается, в частности, в «Пастыре» Ерма (см.: Видения. 3.9.7) и в других местах.
Наконец, знаменитые слова «и мальчики кровавые в глазах». На первый взгляд, с ними все просто: существует диалектное псковское выражение «до кровавых мальчиков», которым обозначается высшая степень напряжения, связанная с приливом крови. Однако вдумаемся, что оно означает в устах Бориса, по повелению которого был зарезан царевич. Коррелирующим выражением к нему служат следующие слова:
Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
Все снилося убитое дитя!
Обратим внимание на слова «как молотком стучит в ушах упрек» – некий голос вопрошает, «допрашивает преступного царя». Таким образом, в монологе Бориса речь идет отнюдь не о приливе крови к голове, а о конкретном видении убитого царевича, неотступно преследующем его: «И рад бежать, да некуда» . И тогда возникает вопрос об источнике подобного образа – навязчивого видения убитого отрока, неотступно преследующего убийцу. В связи с этим стоит привлечь еще один агиографический источник – «Синайский патерик», который иначе именуется еще «Луг духовный», завершенный святым Иоанном Мосхом к 622 году. В X веке этот текст был переведен на церковнославянский язык и с XI века бытовал на Руси . Весьма вероятно, что Пушкин знал этот памятник. В нем содержатся очень интересные и нетрадиционные рассказы. Один из них, 166-й рассказ, говорит о разбойнике, который пришел к авве Зосиме со словами: «Сотвори любовь, поелику я виновник многих убийств; сотвори меня монахом, да прочее умолкну от грехов моих». И старец, наставив, облек его в схиму, затем отослал к знаменитому авве Дорофею, где бывший разбойник восемь лет провел в непрестанной молитве и послушании. Через восемь лет он снова пришел к авве Зосиме и попросил: «Сотвори любовь, дай мне мои мирские одежды и возьми монашеские». Опечалился старец и спросил: «Почему, чадо?» И тогда монах сказал: «Вот уже девять лет как, ты знаешь, отче, я пребываю в киновии, постился, и воздерживался, и со всяким молчанием и страхом Божиим жил в послушании, и знаю, что благостью Своею отпустил Бог мне многие злобы мои; только вижу каждый час отрока (или дитя – παιυδιον), говорящего мне: “За что ты меня убил?” Его я вижу во сне, и в церкви, и в трапезной, говорящего мне это. И ни единого часа не дает мне покоя. Посему же, отец, желаю уйти, чтобы умереть за отрока. В безумии я его убил». Взяв одежды и надев, вышел он из лавры и отошел в Диосполь и на следующий день был схвачен и обезглавлен .
Безусловно, параллель не полна: Борис отнюдь не приходит к монашеству; напротив, даже на смертном одре он чуть ли не отмахивается от него, боится его, он всячески оттягивает момент пострига – для него монашество связано со смертью:
А! схима… так! святое постриженье…
Ударил час, в монахи царь идет –
И темный гроб моею будет кельей…
Повремени, владыко патриарх,
Я царь еще…
И конечно, Борис не идет на смерть за убитого царевича, он изо всех сил, до последнего цепляется за власть и жизнь. Однако мы видим сходство в главном – в навязчивом видении, постоянном кошмаре, который не покидает царя Бориса ни на минуту ни во сне ни наяву, как не оставляет разбойника убитый им мальчик, вопрошающий: «За что ты меня убил?». И в том, и в другом случае можно говорить об определенной «объективности» видений; можно с определенной долей осторожности предположить, что видения Бориса показаны не как галлюцинации, плод расстроенного воображения, а некая действительность, которая подтверждается событиями. С другой стороны, разбойник не становится жертвой прелести, иначе его старец просто бы не отпустил идти на смерть. И в том, и в другом случае совесть становится реакцией души на действительное присутствие сверхъестественного начала. Трагическая ирония судьбы состояла в том, что если по линии отца Иоанн Грозный происходил от Дмитрия Донского, то по линии матери, Елены Глинской, от Мамая, и победитель царств татарских устроил в своем отечестве жизнь не лучше татарского ига: «Сверх ига монголов Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя… И если иго Батыево унизило дух россиян, то, без сомнения, не возвысило его и царствование Иоанново» (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 9. С. 177–178).
К этому выводу пришли многие русские историки, в том числе и современные, в частности Р.Г. Скрынников: «Террор Грозного был одним из важных факторов, подготовивших почву для Смуты» (Скрынников Р.Г . Царство террора. СПб., 1992. С. 528).
Свое желание уйти с престола и принять монашеский постриг Грозный выражал неоднократно, в частности в послании к Кирилло-Белозерским старцам. В этом же послании присутствуют и покаянные мотивы: «Подобает вам, нашим государям (то есть белозерским отцам. – д. В.В. ), и нас, заблудших, просвещати. А мне, псу смердящему, кому учити и чему наказати? Сам бо всегда в пиянстве, в блуде, в скверне, в убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти, во всяком злодействе». (Послания Иоанна Грозного. М., 1951. С. 162.). Как считает Р.Г. Скрынников, именно этот пассаж дал повод Пушкину к поэтизации образа Грозного «с его душой страдающей и бурной» (см.: Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 503).
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 10. C. 232.
«В лето 7106, генваря 6-го, начал благочестивый царь зело изнемогати и повеле призвати к себе отца своего и богомолца Иева патриарха со освещенным собором. Прежде же пришествия патриархова видит некакова пришедша к нему мужа светла во святителских одеждах, и глаголет благочестивый царь внезапу предстоящим боляром своим, повелевает отступити от одра его, да устроят меcто некоему, патриархом нарицая его и честь достойную ему воздати повелевая. Они же глаголаше ему: “Благочестивый царь и великий князь Феодор Иванович всея Руси, кого, государь, зриши и с кем глаголеши? Аще бо отцу твоему Иеву не пришедши, и кому повелеваеши место устроити?” Он же, отвещав, рече им: “Зрите ли? Одра моего предстоит муж светел во одежде святительстей, и ти ми глаголя с собой повелевает”. Они же чудишася на много. И в девятый час тояже нщи благоверный царь Феодор Иоаннович всея Руси отыде, тогда убо просветишеся лице его, яко солнце» (Полное собрание русских летописей. Т. 14. Ч. 1. СПб., 1910. С. 16–17).
Между царем Феодором и юродивым Николкой Железным колпаком много общего: внешнее безумие и внутренняя мудрость, внешнее бессилие и зависимость и внутренняя сила. В трагедии выстраивается своеобразный треугольник: простец царь Феодор, патриарх Иов – «в делах мирских немудрый судия», юродивый Николка.
Наименование Феодора царем-ангелом является анахронизмом, возможно связанным с тем, что так называли Александра I.
Исторически последние слова имеют весьма отдаленное соответствие словам Бориса во время венчания, обращенным к патриарху: «Отче Иов! Бог свидетель, в моем царстве не будет нищих и бедных». Затем, взявшись за воротник рубашки, Борис прибавил: «И эту последнюю разделю со всеми» (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 11. C. 330). Значимо, что Пушкин не использовал эту фразу, несмотря на ее эффектность; для него гораздо важнее другое. Обращение к Феодору Иоанновичу с призывом ниспослать «священное на власть благословенье» соответствует чину венчания на царство – молитве перед возложением венца, в которой к Богу Отцу обращено моление «Низпосли от престола Славы Твоея благословение» (см.: Барсов Е. Древнерусские памятники венчания на царство // Чтения в Императорском обществе истории. 1883; Попов К. Чин священного коронования // Богословский вестник. 1896. Апрель-май).
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 11. С. 287
См. хотя бы статью А.А. Ахматовой «Пушкин и невское взморье».
Пушкинист С.А. Фомичев считает, что, напротив, эта сентенция является проявлением цинизма Бориса, поскольку при слове «гроб» должен вспоминаться убиенный царевич Димитрий (Фомичев С.А. Драматургия Пушкина // Русская драматургия XVII–XIX вв. М., 1982. С. 273). С уважением относясь к работам исследователя, тем не менее, считаем необходимым указать, что, во-первых, поклонение гробам входило в чин венчания на царство, а, во-вторых, гроб Димитрия находился далеко в Угличе и в видении слепого старца называется «могилкой» в противоположность величественным царским гробам.
Черта историческая: «Умом естественным поняв великую истину, что народное образование есть сила государственная, и видя несомнительное в оном превосходство других европейцев, он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу» (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 11. С. 355).
«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже университеты, чтобы учить россиян языкам европейским и наукам» (Там же). Карта России, начертанная сыном царя Феодором Борисовичем, о которой упоминается в трагедии, была издана в 1614 г. Герардом.
«Имея ум редкий, Борис верил, однако же, искусству гадателей, призвал некоторых из них в тихий час ночи и спрашивал, что ожидает его в будущем» (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 10. С. 273).
Макиавелли Н. Государь. СПб., 1993. С. 289.
В черновой редакции трагедии есть еще более ироничный вариант: «Первый: Дай ущипну тебя иль вырву клок из бороды. Второй: Молчи. Не вовремя ты шутишь. Первый . Нет ли луку?» Вновь мы наблюдаем некоторый отход от взгляда Карамзина: «И в то же самое мгновение по данному знаку все бесчисленное множество людей – в кельях, в ограде, вне монастыря – упало на колена с воплем неслыханным: все требовали царя, отца, Бориса! Матери кинули на землю своих грудных младенцев и не слушали их крика. Искренность побеждала притворство; вдохновение действовало и на равнодушных, и на самых лицемеров!» (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 10. С. 290–291). Конечно, Пушкин воспользовался этим сюжетом, но в комических целях.
Конечно, и в трагедии «Борис Годунов», и в стихотворении «Андрей Шенье» есть еще один скрытый план – инвективы в адрес Александра I, которого общественное мнение не совсем справедливо обвиняло в участии в цареубийстве.
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 11. C. 331.
Толкование на 2-е послание к коринфянам. 3: 1 // PG. 61. 441. Толкования Иоанна Златоуста на апостольские послания были переведены на церковнославянский язык, и Пушкин мог их знать, в том числе и это конкретное место.
Слово о статуях // PG. 49. 64C.
Возможно, это аллюзия Пс. 138: 7: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» Однако есть еще один возможный источник – трагедия В. Шекспира «Ричард III». Ср. слова из монолога Ричарда в акте 5: «Бежать? Но от чего же? От себя?»
См.: Голышенко С., Дубровина В.И. Синайский патерик. М., 1967.
PG. 87. 3033 AC; Синайский патерик. С. 200.
Пушкин задумал "Бориса Годунова" как историко-политическую трагедию. Драма "Борис Годунов" противостояла романтической традиции. Как политическая трагедия она обращена была к современным вопросам: роли народа в истории и природы тиранической власти.
Если в "Евгении Онегине" стройная композиция проступала сквозь "собранье пестрых глав", то здесь она маскировалась собраньем пестрых сцен. Для "Бориса Годунова" характерно живое разнообразие характеров и исторических эпизодов. Пушкин порвал с традицией, при которой автор закладывает в основу доказанную и законченную мысль и далее украшает ее "эпизодами".
С "Бориса Годунова" и "Цыган" начинается новая поэтика; автор как бы ставит эксперимент, исход которого не предрешен. Смысл произведения в постановке вопроса, а не в решении его. Декабрист Михаил Лунин в сибирской ссылке записал афоризм: "Одни сочинения сообщают мысли, другие заставляют мыслить". Сознательно или бессознательно, он обобщал пушкинский опыт. Предшествующая литература "сообщала мысли". С Пушкина способность литературы "заставлять мыслить" сделалась неотъемлемой принадлежностью искусства.
В "Борисе Годунове" переплетаются две трагедии: трагедия власти и трагедия народа. Имея перед глазами одиннадцать томов "Истории..." Карамзина, Пушкин мог избрать и другой сюжет, если бы его целью было осуждение деспотизма царской власти. Современники были потрясены неслыханной смелостью, с которой Карамзин изобразил деспотизм Грозного. Рылеев полагал, что Пушкину именно здесь следует искать тему нового произведения.
Пушкин избрал Бориса Годунова правителя, стремившегося снискать народную любовь и не чуждого государственной мудрости. Именно такой царь позволял выявить закономерность трагедии власти, чуждой народу.
Борис Годунов у Пушкина лелеет прогрессивные планы и хочет народу добра. Но для реализации своих намерений ему нужна власть. А власть дается лишь ценой преступления, ступени трона всегда в крови. Борис надеется, что употребленная во благо власть искупит этот шаг, но безошибочное этическое чувство народа заставляет его отвернуться от "царя-Ирода". Покинутый народом, Борис, вопреки своим благим намерениям, неизбежно делается тираном. Венец его политического опыта циничный урок:
Милости не чувствует народ:
Твори добро не скажет он спасибо;
Грабь и казни тебе не будет хуже.
Деградация власти, покинутой народом и чуждой ему, не случай, а закономерность ("...государь досужною порою/ Доносчиков допрашивает сам"). Годунов предчувствует опасность. Поэтому он спешит подготовить сына Феодора к управлению страной. Годунов подчеркивает значение наук и знаний для того, кто правит государством:
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни
Когда-нибудь, и скоро может быть,
Все области, которые ты ныне
Изобразил так хитро на бумаге,
Все под руку достанутся твою
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.
Царь Борис считает, что искупил свою вину (смерть Дмитрия) умелым управлением государством. В этом его трагическая ошибка. Добрые намерения преступление потеря народного доверия тирания гибель. Таков закономерный трагический путь отчужденной от народа власти.
В монологе "Достиг я высшей власти" Борис признается в преступлении. Он совершенно искренен в этой сцене, так как его никто не может слышать:
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
Но и путь народа трагичен. В изображении народа Пушкин чужд и просветительского оптимизма, и романтических жалоб на чернь. Он смотрит "взором Шекспира". Народ присутствует на сцене в течение всей трагедии. Более того, именно он играет решающую роль в исторических конфликтах.
Однако и позиция народа противоречива. С одной стороны, народ у Пушкина обладает безошибочным нравственным чутьем, выразителями его в трагедии являются юродивый и Пимен-летописец. Так, общаясь в монастыре с Пименом, Григорий Отрепьев заключает:
Борис, Борис! Все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от божьего суда.
Образ Пимена замечателен по своей яркости и неординарности. Это один из немногих образов монаха-летописца в русской литературе. Пимен полон святой веры в свою миссию: усердно и правдиво запечатлевать ход русской истории.
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
Пимен наставляет молодого послушника Григория Отрепьева, советуя ему смирять страсти молитвой и постом. Пимен признается, что в молодости и сам предавался шумным пирам, "потехам юных лет".
Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим насладился;
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь господь меня привел.
Пимен был свидетелем смерти царевича Димитрия в Угличе. Он рассказывает подробности случившегося Григорию, не зная, что тот задумал стать самозванцем. Летописец надеется, что Григорий станет продолжателем его дела. В речи Пимена звучит народная мудрость, которая все расставляет по своим местам, всему дает свою строгую и верную оценку.
С другой стороны, народ в трагедии политически наивен и беспомощен, легко передоверяет инициативу боярам: "...то ведают бояре, / Не нам чета...". Встречая избрание Бориса со смесью доверия и равнодушия, народ отворачивается, узнав в нем "царя-Ирода". Но противопоставить власти он может лишь идеал гонимого сироты. Именно слабость самозванца оборачивается его силой, так как привлекает к нему симпатии народа. Негодование против преступной власти перерождается в бунт во имя самозванца. Поэт смело вводит в действие народ и дает ему голос Мужика на амвоне:
Народ, народ! В Кремль! В царские палаты!
Ступай! Вязать Борисова щенка!
Народное восстание победило. Но Пушкин не заканчивает этим своей трагедии. Самозванец вошел в Кремль, но, для того чтобы взойти на трон, он должен еще совершить убийство. Роли переменились: сын Бориса Годунова, юный Федор теперь сам "гонимый младенец", кровь которого с почти ритуальной фатальностью должен пролить подымающийся по ступеням трона самозванец.
В последней сцене на крыльцо дома Бориса выходит Мосальский со словами: "Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит.) Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!"
Жертва принесена, и народ с ужасом замечает, что на престол он возвел не обиженного сироту, а убийцу сироты, нового царя-Ирода.
Финальная ремарка: "Народ безмолвствует" о многом говорит. Эта фраза символизирует и нравственный суд над новым царем, и будущую обреченность еще одного представителя преступной власти, и бессилие народа вырваться из этого круга.
Трагедия «Борис Годунов».
Из всего написанного им в этот период Пушкин особенно выделял историческую трагедию «Борис Годунов», ознаменовавшую свершившийся поворот в его художественном мироощущении. Первым толчком к возникновению замысла явился выход в свет в марте 1824 года 10-го и 11-го томов «Истории государства Российского» Карамзина, посвященных эпохе царствования Феодора Иоанновича, Бориса Годунова и Лжедмитрия I. История восхождения на русский престол Бориса Годунова через убийство законного наследника царевича Димитрия взволновала Пушкина и его современников неожиданной злободневностью. Ни для кого не было секретом, что приход к власти Александра I осуществился через санкционированное им убийство отца. Исторический сюжет о царе-детоубийце приобрел в сознании Пушкина актуальный смысл.
Но в процессе работы над ним «аллюзии» – прямые переклички прошлого и настоящего – отступили на задний план. Их вытеснили гораздо более глубокие проблемы историко-философского значения. Возник вопрос о смысле и цели человеческой истории. Предвосхищая автора «Войны и мира» Л. Н. Толстого, Пушкин дерзнул понять, какая сила управляет всем, как эта сила проявляется в действиях и поступках людей.
Ответы, которые он искал в драмах западноевропейских предшественников и современников, не могли удовлетворить его пытливый ум. Драматургические системы французских классиков и английских романтиков основывались на идущей от эпохи Возрождения уверенности в том, что человек творит историю, являясь мерою всех вещей. В основе драматического действия там лежала энергия самоуверенной и самодовольной человеческой личности, возомнившей, что все мироздание является «мастерской» для приложения ее сил.
И классикам, и романтикам осталась недоступной, по мнению Пушкина, логика исторического процесса, глубина национально-исторического характера. У классиков человек выступал носителем общечеловеческих пороков и добродетелей, у романтиков – рупором лирических излияний автора. Только в исторических хрониках Шекспира Пушкин находил созвучие своим собственным творческим поискам.
«Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории. Не смущаемый никаким влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени».
Трагедия Пушкина «Борис Годунов» решительно порывала с драматургической системой классицизма, обеспечивая автору невиданную до него в драматургии творческую свободу. Действие «Бориса Годунова» охватывает период в семь с лишним лет. События переходят из царского дворца на площадь, из монастырской кельи в корчму, из палат патриарха на поля сражений, из России в Польшу. Пушкин отказывается от деления трагедии на акты, разбивая ее на двадцать три сцены, позволяющие охватить русскую жизнь со всех сторон, показать ее в самых разных проявлениях.
В «Борисе Годунове» отсутствует стоявшая в центре трагедии классицизма любовная интрига: история увлечения Самозванца Мариной Мнишек играет служебную роль. «Меня прельщала мысль о трагедии без любовной интриги», – скажет автор.
Вместо ограниченного классическими правилами количества действующих лиц (не более десяти) у Пушкина около шестидесяти персонажей, охватывающих все слои общества: от царя, патриарха, бояр, дворян, иностранных наемников – до монахов, бродяг-чернецов, хозяйки корчмы и простого «мужика на амвоне», призывающего народ бежать в царские палаты на расправу с «Борисовым щенком». В трагедии, вопреки традициям, отсутствует главный герой. Годунов умирает, а действие продолжается. Да и участвует он в шести сценах из двадцати трех.
Отказывается Пушкин и от «единства слога», стремясь к исторической достоверности, а в ее пределах – к индивидуализации речи действующих лиц. Речь Бориса, например, торжественна и книжна в обращении к патриарху и боярам в момент его избрания на царство и сближается с народным просторечием в общении с сыном и дочерью.
Порывает Пушкин и с «единством жанра», соединяя в трагедии высокое с низким, трагическое с комическим. Наконец, автор «Бориса Годунова» решительно меняет принципы изображения человеческого характера. От мольеровских героев, носителей одной доминирующей страсти, он переходит к шекспировской полноте изображения. Борис Годунов не похож у него на классического «злодея». Этот «цареубийца», пришедший к власти через кровь маленького Димитрия, еще и умный правитель, заботящийся о народном благе, любящий отец, несчастный человек, которого мучит совесть за совершенное им злодеяние. Его противник – Гришка Отрепьев – честолюбив, но одновременно пылок, отважен, способен на искреннее любовное увлечение.
Есть и еще одна особенность, свойственная всем героям пушкинской трагедии без исключения, – глубокий историзм их характеров, достигнутый путем изучения летописей и других исторических документов. «Характер Пимена, – говорил Пушкин, – не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в старых летописях».
Историк М. П. Погодин, слушавший «Бориса Годунова» в авторском чтении, вспоминал: «Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила. Мне показалось, что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена».
Таким образом, в «Борисе Годунове» Пушкин расстается со всеми эстетическими принципами, на которых держалась целостность классической трагедии. Но по своим художественным установкам Пушкин был созидателем. Он разрушал устаревшие традиции классицизма во имя созидания более емкой и совершенной драматургической системы. В чем ее своеобразие и характерные признаки?
Долгое время считалось, что Пушкин в своей трагедии сделал народ главным героем и творческой силой истории. Однако сам Пушкин видел цель трагедии в другом: «Что развивается в трагедии? какая цель ее? – спрашивал он и отвечал. – Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная». Вдумаемся в эти слова. «Человек и народ» – это, в сущности, весь охват действующих лиц в трагедии, а главная цель ее – судьба человека и судьба народа: общая, соединяющая всех судьба или закон судеб человеческих.
Когда внимательно читаешь «Бориса Годунова», трудно отделаться от ощущения, что, кроме видимых, действующих героев трагедии, есть в ней еще один герой, невидимый, не персонифицированный, но тоже действующий, постоянно дающий о себе знать. Причем этот невидимый герой как раз и является верховным арбитром, он-то и направляет действие в нужное ему русло и делает это неожиданно, непредсказуемо.
Несмотря на внешнюю пестроту сцен в трагедии, всех их объединяет единое действие, движущееся динамично и целенаправленно к парадоксальному итогу. Действия героев, принимающих участие в этом движении, не достигают ожидаемых ими результатов: Борис умирает побежденным, Самозванец на грани разоблачения, народ в очередной раз обманут.
Замечательно, что в этих неожиданностях проявляется не слепой рок, а какая-то очень справедливая высшая Сила. Каждому воздает она по его вере и по его деяниям. Примечательна кольцевая композиция трагедии, основанная на принципе зеркального отражения. Действие открывается разговором бояр Шуйского и Воротынского об убийстве ребенка, царевича Димитрия, рвущимся к власти Борисом Годуновым. А в финальной сцене совершается убийство юного сына Бориса Годунова Феодора. Грех детоубийства, совершенный Годуновым, вызывает ответную кару, равносильную содеянному греху.
Эта высшая Сила дважды приоткрывается людям, ослепленным мирскими грехами, в двух ключевых сценах трагедии: «Ночь. Келья в Чудовом монастыре» и «Площадь перед собором в Москве». Проводниками этой высшей Силы являются люди, отрешенные от мирских помыслов и не принимающие участия в событиях. Никаких корыстных интересов у них нет. Ничто в этом мире их не держит и не связывает. В меру их внутренней чистоты и бескорыстия им и открывается смысл Божьей правды, который сокрыт от других героев. В первой сцене это летописец-монах Пимен, во второй – блаженный юродивый Николка.
В устах Пимена звучит обвинение людям в их грехах и пророческое предсказание неминуемой расплаты:
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу Мы нарекли…
Когда действие приближается к кульминации, юродивый Николка на соборной площади говорит в лицо Борису: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит». Вслед за этим приговором – внезапная смерть Бориса, ведущая действие к финалу. Пушкин показывает провиденциальный характер этого возмездия. По какому-то как бы случайному стечению обстоятельств Божьей каре, ниспосланной Борису Годунову, предшествует столкновение юродивого, «взрослого ребенка», с мальчишками. Это, по сути, еще и кульминация «детской» темы, проходящей через всю трагедию. Она начинается с убийства Димитрия, о котором рассказывают бояре. Потом, в момент уговоров Бориса на царствование, ребенок на руках у бабы плачет, «когда не надо», и не плачет, «когда надо» (вспомним евангельские слова Христа о младенцах, которым открыта высшая истина). Затем в доме Шуйского мальчик читает вслух молитву о здравии… царя-детоубийцы. Появляются дети Бориса Годунова Феодор и Ксения. У Ксении неожиданно и странно умер юный жених ее – предвестие чего-то недоброго. Да и сам Борис в тревожной любви к своим детям будто боится потерять их, предчувствует скорую разлуку, надвигающуюся беду («мальчики кровавые в глазах»). В финальной сцене мужик кричит в исступлении: «Вязать Борисова щенка!» Но чей-то голос из толпы произносит: «Бедные дети, что пташки в клетке».
В причинно-следственных связях событий трагедии детские эпизоды выглядят случайными: никто тут ничего специально не подстраивает, никаких интриг не плетет. Но, случайные на уровне человеческого понимания, эти эпизоды закономерны ввиду той высшей справедливости, которая является хотя и не видимым, но самым главным действующим лицом трагедии – Силой, которая управляет всем.
В осмыслении правды истории, в понимании происходящих событий человек нередко сталкивается, по Пушкину, с фактами необъяснимыми, кажущимися ему случайными, не имеющими никаких логических оснований. И человек склонен отказывать им в праве на существование. Пушкин нас предупреждает: «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астрономом и события в жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия Провидения».
В трагедии грешен не только Борис. Грешен и народ: его судьба в чем-то перекликается с судьбою Бориса. Посмотрим на поведение народа в экспозиции и в финале трагедии. В экспозиции: Народ молчит.
Его побуждают умолять Бориса быть царем. Народ кричит: «Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами». В финале: Народ кричит: «Да гибнет род Бориса Годунова!» Его побуждают приветствовать приход на царство Димитрия-самозванца. «Народ безмолвствует».
В финале все, как в экспозиции, но только в обратном порядке. Грех народа заключается в избрании Бориса на царство, в том, что он «молился за царя Ирода». Поэтому в убийстве Феодора, в нашествии чужеземцев, в грядущей смуте повинен не только Борис, но и народ.
В ходе действия Борис склонен упрекать народ в неблагодарности, в строптивости, не замечая, что эти упреки являются в известной мере самооправданием, стремлением заглушить в себе чувство совести. Но и народ, упрекая Бориса во всех бедах, снимает с себя грех, бремя тяжелой ответственности за свое попустительство. И Борис, и народ глухи к высшему голосу правды. Этот голос слышат чистые души Пимена и юродивого Николки – именно в них пробивается к свету народная совесть, и только к ним можно отнести известный афоризм: «Глас народа – глас Божий». Что же касается основной массы народа, как бы объединяющейся у Пушкина в собирательное Лицо, то ее «глас», ее «мнение» помрачены грехом. Только в финале трагедии, в многозначительной ремарке – «Народ безмолвствует» – видится обнадеживающий знак пробуждения народной совести.
Обращаясь к опыту Шекспира, Пушкин пошел дальше великого предшественника, у которого главный интерес состоит в деятельности частных исторических лиц. Обладая свободой воли, они совершают свой выбор и несут расплату за него, слыша голос совести или ощущая противодействия других лиц, выполняющих карающие функции. Драматургическая система Шекспира «антропоцентрична»: в центре ее стоит «ренессансный», предоставленный самому себе человек. Голос совести в нем все более и более затухает. И цепочка событий почти целиком подчиняется логике «человеческих», психологически мотивированных причинно-следственных связей. Мир Идеала, свет высшей Божественной истины слабо мерцает здесь перед лицом земных обстоятельств, очень далеких от Идеала. Вот почему Пушкин говорил, что, когда он читал Шекспира, ему казалось, что он «смотрит в ужасную, мрачную пропасть».
Пушкин, следуя Карамзину «в самом развитии происшествий», возвращает трагедии утраченную в эпоху Возрождения Истину Божественного идеала, Божественной воли, стоящей над человеком и человечеством. В диалоге человека с миром у Пушкина возникает третье Лицо, этот диалог невидимо корректирующее и направляющее.
Царь Борис мнит себя творцом истории, полновластным хозяином своей судьбы. «Он думает, – пишет В. С. Непомнящий, – что решающую роль в опыте „быстротекущей жизни“ играют „науки“; он думает, что история делается только руками и головой, что природа ее только материальна. Думать иначе может, по его мнению, только „безумец“. Кто на меня? Пустое имя, тень -
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?
Безумец я! чего ж я испугался?
На призрак сей подуй – и нет его…
Но он ошибся. Произошло как раз то, чего он „испугался“ – испугался прежде рассудка, непосредственно, глубиной духа. Имя обрушилось на него, тень сорвала с него порфиру, звук лишил наследства его детей, и призрак его погубил». Так реализм Пушкина начинал обретать трезвую религиозную первооснову, в ядре которой уже заключался будущий Толстой, будущий Достоевский. «Формула» этого реализма не укладывалась в «формулу» реализма западноевропейского, сделавшего акцент на свободном, самодостаточном, суверенном человеке – пленнике своих земных несовершенств.
Далеко не случайно, что Пушкин оценивал трагедию «Борис Годунов» едва ли не выше всего им созданного. В момент завершения своего труда он радовался как ребенок: «Трагедия моя кончена: я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши, и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!» В этой трагедии Пушкин вышел на новую дорогу в своем искусстве. Пытаясь дать себе отчет в этом, в одном из набросков предисловия к «Борису Годунову» он писал: «Отказавшись добровольно от выгод, мне представляемых системою искусства, оправданной опытами, утвержденной привычкою, я старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий – словом, написал трагедию истинно романтическую» (курсив мой. – Ю. Л.). Термина «реализм» в ту пору еще не существовало. Вместо него Белинский вскоре введет в свои критические статьи понятие поэзия действительности. Пушкин же аналогичное понятие определяет как истинный романтизм, то есть реализм.
Из книги Гоголь в русской критике автора Добролюбов Николай АлександровичТрагедия великого юмориста (Несколько мыслей о Гоголе)IКто не помнит конца веселой Сорочинской ярмарки. Свадьба… «От удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах
Из книги Лекции о драме автора Набоков Владимир Из книги 100 запрещенных книг: цензурная история мировой литературы. Книга 2 автора Соува Дон Б Из книги Мысль, вооруженная рифмами [Поэтическая антология по истории русского стиха] автора Холшевников Владислав Евгеньевич Из книги Условности (статьи об искусстве) автора Кузмин Михаил АлексеевичТрагедия справедливости Не дочерняя неблагодарность, не предательство и не подлость окружавших, не печальная судьба, заставившая его скитаться в пустыне с изгнанниками, юродивыми и нищими, не северная непогода, обрушившаяся на седую его голову - делает из Лира
Из книги Искусство беллетристики [Руководство для писателей и читателей.] автора Рэнд АйнТрагедия и ее оправдание Чтобы оправдать трагические финалы в литературе, следует показать, как я это сделала в романе «Мы живые», что человеческий дух может пережить даже худшее из обстоятельств - худшее, связанное с природными катастрофами или злым умыслом других
Из книги Пожар миров. Избранные статьи из журнала «Возрождение» автора Ильин Владимир НиколаевичТрагедия и Достоевский «Пир» Платона заканчивается, как известно, беседой бодрствующего Сократа, доказывающего своим трем слушателям, которых еще не свалила сила вина, что «истинный комик есть истинный трагик, а также что истинный трагик есть истинный комик». Позже это
Из книги Дело о Синей Бороде, или Истории людей, ставших знаменитыми персонажами автора Макеев Сергей Львович Из книги Мой XX век: счастье быть самим собой автора Петелин Виктор Васильевич Из книги Страус - птица русская [сборник] автораТрагедия на Фонтанке Премьерой спектакля «Дон Карлос» Ф. Шиллера Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) завершил празднование своего девяностолетия.Именно трагедией Шиллера «Дон Карлос» и открылся в 1919 году Большой драматический. Надо
Из книги Вред любви очевиден [сборник] автора Москвина Татьяна ВладимировнаТрагедия колпака Как много в жизни простой, обыкновенной печали! Трагедии и драмы вершатся буквально под нашими равнодушными ногами. Об одной такой трагедии я вам сегодня расскажу, и вы поймёте, что всегда знали об этом. Знали – но не осознавали, проходили мимо, не
Из книги Жизнь и труды Пушкина [Лучшая биография поэта] автора Анненков Павел Васильевич Из книги Герои Пушкина автора Архангельский Александр Николаевич«Борис Годунов» Драма (драма, 1824–1825; отд. изд. - 1831)
Из книги Сочинения Александра Пушкина. Статья десятая автора Белинский Виссарион Григорьевич Из книги Русский параноидальный роман [Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков] автора Сконечная Ольга«Борис Годунов» Совершенно новая эпоха художнической деятельности Пушкина началась «Полтавою» и «Борисом Годуновым». Хотя первая вышла в 1829 году, а последний – в 1831 году, тем не менее их должно считать почти современными друг другу произведениями, потому что «Борис
Из книги автораЧасть 2 Роман-трагедия Как известно, модернистские интерпретации классики – это прежде всего описания собственной поэтики. Так, в одном из моментов осмысления символистами романного жанра Достоевского мы находим историко-литературную опору для наблюдений
Наконец, в одном из набросков предисловия к трагедии Пушкин писал: Карамзину следовал я в светлом развитии происшествии, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени. При исследовании вопроса о принципах и методах работы Пушкина над фактическим материалом: «Истории» Карамзина, необходимо обратиться к некоторым особенностям карамзинского исторического повествования, а также к характеру отношения к Карамзину и его «Истории» в 1810-1820-х годах.
Было бы, однако, по меньшей мере опрометчивым делать из подобных соотношений выводы о прямых соответствиях между характером и действиями Бориса и Тиберия.
Объяснить это движение, придав ему характер антикрепостнического народного протеста против режима Годунова, как это и было в действительности, Карамзин не мог уже.в силу того, что крепостное право он расценивал, как прочное основание всей системы русского самодержавия.
В литературе о «Борисе Годунове» не раз высказывались соображения о том, что параллельно с «Историей Государства Российского» Карамзина и русскими летописями – основными историческими источниками пушкинской трагедии – Пушкин в какой-то мере опирался и на «Анналы» Тацита. Интерес Пушкина к Тациту и пушкинские замечания на «Анналы» по времени совпадают с работой над трагедией. Об отношении Пушкина к Тациту существует уже довольно обширная литература.
Что же касается образа пушкинского Димитрия, в котором сказались, как полагал акад. М. М. Покровский, некоторые черты личности Агриппы Постума, то приходится констатировать, что акад. М. М. Покровский в данном случае исходил, по-видимому, из пушкинской характеристики Агриппы, которая отличается от характеристики, данной Тацитом. Подобные расхождения вообще характерны для пушкинских замечаний па «Анналы» и показывают, с какой осторожностью подходил Пушкин к некоторым оценкам римского историка.
Основными источниками исторического материала для Пушкина, как уже было сказано, были «История Государства Российского» Карамзина и подлинные памятники летописного характера. Сам Пушкин как в процессе работы над трагедией, так и по завершении ее неоднократно касался этого вопроса. Посылая в 1829 году рукопись своей трагедии Н. Н. Раевскому, Пушкин счел нужным оговорить: «я требую, чтобы прежде, чем читать ее, вы перелистали последний том Карамзина. Она полна славных шуток и тонких намеков, относящихся к истории того времени…».